|
 | |  |
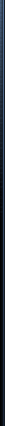 | Главная » 2010 » Июль » 9 » (СС7, 730-731) Не подготовленное ни заданной темой, ни предшествующим ее развитием
19:29 (СС7, 730-731) Не подготовленное ни заданной темой, ни предшествующим ее развитием |
| (СС7, 730-731) Не подготовленное ни заданной темой, ни предшествующим ее развитием финальное признание в любви к словам, к "их виду, их звуку, их переменности, их неизменности" есть, пожалуй, самый пронзительно личный аккорд в этом рассуждении, которое в остальном, скорее, воспроизводит публицистические, в том числе - мистико-революционные, клише того времени.Шевеленко И.
Литературный путь Цветаевой:
Идеология-поэтика-идентич>ность автора в контексте эпохи.
- М.: Новое литературное обозрение, 2002. - 464 с.
ISBN 5-86793-189-7
(Серия "Научная библиотека")
Книга посвящена анализу творческого развития М. Цветаевой и формирования ее прижизненной литературной репутации. История писательского опыта автора рассматривается в соотнесении с культурным контекстом и ключевыми дискурсами эпохи модернизма (ницшеанство, демонизм художника, метафизика пола, антиномия природы и культуры и т. д.). Это позволяет связать воедино проблематику творческой идеологии, поэтики и авторской идентичности. Эволюция и сложное взаимодействие этих рядов прослеживаются на материале всего творчества Цветаевой, с привлечением обширного пласта прижизненной критики и прежде не вводившихся в научный оборот архивных источников.
Содержание
Предисловие
7
Введение
9
Глава 1. "Гимназистка"
"Любовь к словам"
15
Глазами критики
27
"Хорошая школа"
35
"Но в цехе я не буду"
48
Глава 2. "Я и мир"
"Причудница пера"
58
"Женская поэзия"
64
История Байрона
74
Судьба
95
"Последний год старого мира"
106
Глава 3. Ремесло
"Dйclassйe"
133
Перепутья
143
"Лазурные земли"
172
Проза
197
Глава 4. Эвридика
Встреча с критикой
212
"Поэзия Умыслов"
230
"Поэт о критике"
282
Глава 5. Уединение
Прощание с лирикой
301
"Самое крупное имя"
305
"Цель пути"
334
Эпос
350
Пушкин и Пастернак
381
Поэт и время
402
"Отказ"
433
Заключение
438
Принятые сокращения
440
Указатель имен
442
Указатель цитируемых и упоминаемых произведений М. Цветаевой
452
Предисловие
Эта книга представляет собой существенно переработанный и дополненный вариант моей докторской (Ph. D.) диссертации, защищенной в Стэнфордском университете (США) в 1998 году. При ее подготовке к печати я учла появившиеся с тех пор публикации материалов из архива Цветаевой и исследовательскую литературу, вышедшую до конца 2001 года. На последнем этапе работы над книгой у меня была также возможность познакомиться со значительной частью материалов недавно открывшегося для исследователей архива М. И. Цветаевой, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Москва).
Начав заниматься творчеством Цветаевой в годы своего студенчества в Тартуском университете, я получила первые уроки профессионального воспитания от моего научного руководителя профессора Зары Григорьевны Минц. Ее внимание, требовательность и терпение были несомненным
даром судьбы, и потому ее светлой памяти я посвящаю эту книгу.
Я признательна руководителю моей диссертации в Стэнфорде профессору Лазарю Флейшману за многократное чтение черновиков, критическое участие и неоценимую поддержку в моей работе.
Я благодарна также моим коллегам и друзьям, общение
с которыми на протяжении ряда лет помогло оформиться идеям этой книги: Е. В. Берштейну, А. Б. Блюмбауму, Р. С. Войтеховичу, С. И. Ельницкой, Е. Б. Коркиной, И. В. Кудровой.
Мне хочется сказать слова благодарности и аспирантам славянской кафедры Висконсинского университета в Мэдисоне - участникам моего семинара 2000 года, посвященного Цветаевой. Их энтузиазм, упорство и стремление понять совершенно непонятные вещи помогли мне сформулировать многие мысли этой книги.
Небольшие ранние варианты некоторых частей книги появлялись в печати в виде статей и/или представлялись на конференциях. Они вошли в окончательный текст в существенно измененном виде, и я признательна всем, чьи отклики и замечания помогли мне переработать их.
В заключение я хочу поблагодарить все программы и фонды, которые финансово поддерживали меня в период работы над диссертацией, легшей в основу этой книги: кафедру славистики Стэнфордского университета, Stanford Humanities Center, Graduate Research Opportunity Program (Stanford School of Humanities and Sciences), Stanford Center for Russian and East European Studies, Whiting Foundation.
Введение
Эта книга посвящена литературной биографии Марины Цветаевой, поскольку повествование в ней строится как рассказ о текстах, созданных автором. Эта книга посвящена
литературной биографии Цветаевой, поскольку эти тексты анализируются как развертывающаяся во времени цепочка смыслов и способов их выражения, составляющих историю писательского опыта автора.
Эта книга посвящена также истории взаимоотношений автора с эпохой вообще и литературной эпохой в частности,
в которой он жил и которая живет в его текстах.
Наконец, это книга о том, как формируется и развивается идентичность автора, почему она так формируется и что это значит для его текстов и его литературной судьбы.
Существующая на сегодняшний день биографическая (или функционально близкая к ней) литература о Цветаевой подробна1, и мы на нее опираемся в своем повествовании. Собственно биографическая информация вводится в наш рассказ в том объеме, который необходим для понимания анализируемых текстов и контекстов.
Литература, посвященная творчеству Цветаевой, очень обширна, и мы остановимся здесь лишь на наиболее принципиальных для нашего исследования типах работ1.
Мотивно-тематические разборы поэзии Цветаевой составляют существенную часть в литературе о ней. Наиболее обширная работа такого плана, книга С. Ельницкой2, по своему подходу очень далека от установки нашего исследования. "Поэтический мир" Цветаевой рассматривается в ней как статическое целое, вне категорий развития и изменения, а также вне соотнесения с историко-литературным контекстом. Эта книга, однако, дает в руки исследователя компендиум тем
и мотивов, которые можно "диахронизировать" (т. е. рассмотреть в развитии), а также попытаться вписать в контекст иных "поэтических миров" модернизма, дабы оценить пункты расхождения Цветаевой с ними.
Более частные мотивно-тематические анализы цветаев-ского творчества, как правило, строятся как диахронные, с акцентом или на видоизменениях, или на постоянстве конкретного мотива/темы в ее произведениях. Примером первого является статья Н. Г. Дацкевич и М. Л. Гаспарова "Тема дома в поэзии Марины Цветаевой"3, примером второго - статья А. Крот (A. Kroth) "Androgyny as an Exemplary Feature of Marina Tsvetaeva's Dichotomous Poetic Vision"4. Контекстуализация анализируемого материала в культуре эпохи обычно не входит в задачи таких работ, чем они существенно отличаются от установки нашего исследования. С другой стороны, эти работы стремятся концептуализировать анализируемый материал, связать его с общим развитием Цветаевой как поэта, в чем сходятся с нашей установкой.
Популярными в последнее время стали анализы мифопоэтики цветаевских текстов. Одним из первых к этой теме обратился Е. Фарыно, а в самое недавнее время появились книги О. Хейсти, Н. О. Осиповой и А. Динеги1, не говоря о многочисленных статьях. Разные по методикам анализа, все эти работы близки нам своим стремлением к выявлению некоторого целостного миросозерцания автора, которое проявляет себя в его пристрастии к тем или иным мифологическим кодам и схемам, повторяющимся (либо видоизменяющимся) при разработке разных сюжетов и тем. Это направление исследований пересекается с интертекстуальными штудиями, поскольку "размыкает" текст, контекстуализируя его в некотором литературном и культурном пространстве.
Из преимущественно интертекстуальных исследований следует отметить книги М. Мейкина и А. Смит2; в каждой из них в своем ключе анализируется стратегия и техника работы Цветаевой с чужими текстами (последняя из книг связана и с мифопоэтическими штудиями). Вообще поиски подтекстов, а значит, контекстов произведений Цветаевой являются на сегодняшний день наиболее активно разрабатываемым направлением в исследованиях ее творчества. Эта тенденция как бы "выправляет" односторонность доминировавших не так давно "внеконтекстуальных" исследований о Цветаевой, тексты которой представлялись напрямую вытекающими из свойств ее личности.
С последним обстоятельством связан очевидный сегодня дефицит концепций пути Цветаевой как поэта (и прозаика) - дефицит парадоксальный, учитывая яркость и богатство этого пути3. Однако путь этот, конечно, можно описать и осмыслить, лишь вернув Цветаеву контексту той эпохи, в которой она жила и писала, и - насколько это в силах исследователя - абстрагировавшись от последующих контекстов, в которых читались и читаются ее произведения.
Этой книгой мы хотели бы предложить именно такой вариант исследования творчества Цветаевой, - прекрасно понимая, что единоличным усилием его можно именно предложить, но никак не исчерпать. Он не противостоит большинству перечисленных выше подходов, но задает несколько иную рамку для всех них.
Эта рамка прежде всего требует историзации как текстов автора, так и стратегий его литературного поведения. Она требует внимания к культурному контексту эпохи и ее ключевым дискурсам, в соотнесении с которыми автор развивает свои идеи и темы. Она требует понимания, из какого спектра возможностей выбирает автор свою идентичность и модель презентации себя в текстах. Она требует, наконец, включения поэтики в контекст идейной - в широком смысле этого слова - эволюции автора. "У поэта <...> всё, что зовется манерой и стилем, - есть выражение духовной его личности. Изменение стиля свидетельствует о глубоких изменениях
душевных, причем степень перемены в стиле прямо пропорциональна степени перемены внутренней"1, - записывал в
1920 году В. Ходасевич. Такое понимание поэтики едва ли универсально, но к случаю Цветаевой оно подходит как нельзя лучше. Ее поэтика объективно идеологична, - и не случайно ни одного формалиста она никогда не прельстила. Анализ узловых "перемен в стиле" в творчестве Цветаевой строится поэтому в нашей работе как анализ "перемен внутренних", мировоззренческих.
Охват всего творческого пути Цветаевой является столь же сложной, сколь и принципиальной задачей нашего исследования. Чем избирательней исследователь в привлечении текстов для анализа, тем легче ему выстроить жесткую и красивую концепцию, - но она будет малоубедительна для тех, кто читал другие тексты. С другой стороны, утопический проект писания "про всё" никогда бы не позволил нам закончить эту книгу. Поэтому мы всего лишь постарались включить в обсуждение такое количество текстов, чтобы свести возможности манипулирования концепциями к минимуму.
Принципы анализа этих текстов в работе вытекают, в частности, из их количества, а также из следующих соображений.
Творчество поэта представляется читателю, открывающему его собрание сочинений, нагромождением текстов. Исследователь, открывающий то же собрание сочинений, в этом нагромождении ищет логику. Одна из стратегий поиска такой логики - попытка сквозь "толщу" текстов нащупать стержень, который все их как-то связывает между собой. Каждый текст - пучок смыслов, разными читателями в разное время и в разных местах выстраиваемых в разные иерархические ряды. Но каждый текст (или большинство из них) каким-то своим смыслом (или смыслами)1 скреплен с этим стержнем, т. е. сопричастен его "материализации". На этих "стержневых" смыслах и будет сосредоточиваться анализ отдельных текстов в нашем исследовании, оставляя открытыми дальнейшие возможности детализации, умножения и усложнения интерпретаций каждого текста или их групп.
Наша работа строится в основном хронологически, что не исключает многочисленных возвратов назад и забеганий вперед, естественных в таких повествованиях. Единственным существенным отклонением от хронологического принципа являются три раздела последней главы: "Эпос", "Пушкин и Пастернак", "Поэт и время". Они следуют друг за другом, хотя все три описывают приблизительно один и тот же временной период в творчестве Цветаевой; каждый, однако,
посвящен разным его сторонам и текстам. Такое "параллельное" изложение показалось нам оправданным, и хочется надеяться, оно не окажется неудобным для читателя.
Обширность существующей литературы о Цветаевой делает невозможным включение в наш текст отсылок ко всем работам, так или иначе анализировавшим те же произведения, что анализируются нами. Мы ограничили себя обязательными отсылками лишь к тем исследованиям, на которые непосредственно опирается наше повествование, которые прямо дополняют наши наблюдения, с точкой зрения которых мы солидаризируемся или не соглашаемся. Во всех остальных случаях ссылки даются избирательно.
* * *
Все поэтические произведения Цветаевой, вошедшие в СП, цитируются в нашем тексте по этому изданию - как единственному научному изданию поэзии Цветаевой. Остальные поэтические тексты, а также проза и большинство писем Цветаевой цитируются по СС. Перечень других используемых
изданий Цветаевой и список принятых в ссылках сокращений находится в конце книги.
Глава 1
"Гимназистка"
(1908-1912)
"Любовь к словам"
Литературные дебюты имеют свою "нормативную поэтику", и кавычки здесь нужны лишь потому, что ее правила не писаны. Изменяясь во времени и являясь составной частью литературной культуры любой эпохи, эти правила одновременно и отражают и программируют структуру литературной жизни. Успешность или неуспешность дебюта впоследствии может восприниматься как совершенно второстепенная составляющая творческой биографии автора. Соответствие или несоответствие дебюта существующему обычаю, т. е. "ритуальная", конвенциональная его сторона, раскрывает модель поведения, которую сознательно или спонтанно избирает для себя начинающий автор, и часто отражает важные особенности его культурной личности, в основе своей остающиеся неизменными.
В биографической литературе рассказ о литературном дебюте Цветаевой в той или иной мере основывается на ее собственном описании этого события, данном в очерке "Герой труда" (1925):
Первая моя книга "Вечерний альбом" вышла, когда мне было 17 лет, - стихи 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, - взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно (СС4, 23).
В то время, когда писались эти строки, Цветаева вполне сознавала всю необычность своего дебюта с точки зрения существовавших конвенций. Однако выведенная здесь на первый план внелитературность побудительных мотивов, стоявших
за ее первым литературным поступком, имела лишь косвенное отношение к существу этой необычности. Более важным, хотя и лишенным программного звучания, был следующий, поясняющий, пассаж: "Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету, - всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII кл."1 (СС4, 23). Псевдонаивный перевод рассказа о литературном дебюте в термины торгово-деловых отношений между автором и типографией был тем приемом, который маскировал действительную необычность первого литературного шага Цветаевой: отсутствие у него координат
в области литературных отношений, приписанное выше специфически личным мотивам публикации сборника.
Разумеется, издание книг, в том числе и стихотворных сборников, "за счет автора" было распространенной практикой в начале ХХ века. Однако такая практика являлась уделом дилетантской литературы, не претендовавшей на выход за рамки узкой, дружеской читательской аудитории. Рассказывать
о выпуске сборника за свой счет как о чем-то само собой разумеющемся было для поэта, претендовавшего на совсем иное место в современной словесности, по-своему вызывающим, - что и соответствовало духу очерка "Герой труда", посвященного законодателю литературных правил Валерию Брюсову. Пожалуй, смягчало впечатление вызова указание на гимназический возраст автора: издание книги за свой счет в столь юном возрасте было по-своему экзотично и само по себе свидетельствовало о неординарных амбициях "гимназистки VII класса". Однако, рассказывая о выходе "Вечернего альбома", Цветаева умолчала об одной важной подробности - о том, что это была не просто ее первая книга, но вообще первое появление ее стихов в печати.
Невзирая на то, что "книгу издать в то время было просто", начинать литературные выступления сразу выпуском сборника было не принято. Этот путь опять-таки мог быть уделом дилетанта, не имевшего иных возможностей увидеть свои стихи напечатанными. Для тех же, кто имел иные амбиции, нормой был дебют в журнале или альманахе, связывавший имя начинающего автора с тем или иным литературным кругом, направлением, группой. Подобная "связанность" не обязательно должна была быть глубинной в эстетическом или идейном плане, - она могла иметь и чисто прагматический смысл: интенсивность и многообразие литературной жизни эпохи были таковы, что принадлежность новичка к некоторой группе давала ему больше шансов быть замеченным. А поскольку свой круг или группу нужно было найти или образовать, печатному дебюту должен был предшествовать и сопутствовать некоторый ряд литературных отношений автора. Когда же, после журнальных публикаций, дело доходило до издания сборника, то и он, как правило, нес на себе печать какой-то группы - в виде названия издательства, его выпустившего. Цветаева пренебрегла и этим1.
Итак, отсутствие публикаций, предшествовавших выходу сборника, и отсутствие поддержки со стороны каких-либо литературных сил сближали цветаевский дебют с дилетант-
ским. (При этом, как будет ясно из дальнейшего, Цветаева могла с легкостью избежать и первого, и второго.) Довершал это сходство и впечатляющий объем "Вечернего альбома": сто одиннадцать стихотворений! Дело здесь было не просто в количестве: оно лишь отражало принцип, легший в основу составления сборника. Юный автор явно не желал отбирать стихи, заместив принцип избирательности принципом по возможности полного представления своих поэтических опытов, - т. е. тем принципом, который естественен был бы именно для поэта-дилетанта.
Следует ли приписать странности поэтического дебюта "гимназистки VII класса" ее полной литературной неискушенности или же непомерности честолюбия? Чем самой Цветаевой в то время мог представляться сделанный ею шаг? В какую цепочку событий и переживаний он был включен?
В толковании, данном Цветаевой в 1925 году выходу своего первого сборника - "взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе", - говорится лишь о решающем толчке к изданию книги. Не очень ясные по своим деталям, но несомненно чрезвычайно важные
в душевном опыте юной Цветаевой1, ее взаимоотношения с Владимиром Оттоновичем Нилендером, окончившиеся разрывом в начале 1910 года, оставили глубокий след на страницах "Вечернего альбома", - так что ничего психологически недостоверного в цветаевских словах о причинах издания сборника нет. Тем не менее эти слова поясняют лишь финальный импульс к публикации сборника, пожалуй - и источник его названия2, но никак не объясняют ни его состава и композиции, ни избранного способа издания.
Даже то немногое, что известно о "допечатной" литературной биографии Цветаевой, свидетельствует об интенсивности ее ранних опытов. Позднее она упоминала, что стихи писала с шести лет (СС4, 622). Но если бы этих упоминаний и не было, техника стиха, демонстрируемая ею в первом же сборнике, позволяла бы утверждать, что навыки стихотворчества были усвоены ею достаточно давно. Да и сам объем стихотворной продукции, представленной в двух полудетских сборниках3, поразителен: почти две с половиной сотни стихотворений. В этом отношении Цветаеву не с кем сравнить из ее литературных сверстников, потому что никто из них сопоставимого корпуса столь ранних стихов не оставил.
Свидетельства о литературных опытах Цветаевой, предшествовавших выходу "Вечернего альбома", немногочисленны, но вполне конкретны. В 1906-1907 годах она пишет повесть (или рассказ) "Четвертые"1. В 1908-1909 годах переводит драму Э. Ростана "Орленок". В 1908 году пишет свою автобиографию2, которую дает читать близким знакомым. Известно, кроме того, о многочисленных дневниках, которые Цветаева вела с детства3. Наиболее существенным источником для характеристики внутреннего развития и интересов юной Цветаевой являются ее письма 1908 года к Петру Юркевичу, старшему брату ее гимназической подруги. Эти письма впечатляют и наличием вполне выработанного авторского стиля (хотя и несущего отпечаток языковых штампов эпохи), и явно выраженным интересом к современной словесности. Одновременно они свидетельствуют о поглощенности юной Цветаевой революционными настроениями, которые она развивает в индивидуалистическом неоромантическом ключе. Теме ожидания революции посвящены проникновеннейшие строки писем. Однако развитие этой темы в одном из таких писем шестнадцатилетней Цветаевой поражает непредсказуемостью хода авторской мысли, приводящего ее к признаниям весьма неожиданным:
Радует меня то "нечто", чем пахнет в воздухе. Только не могу, не смею верить я, что оно действительно осуществится. Не забастовка, нет, но боевая готовность, уснувшая даже в лучших, жажда грозных слов и великих дел.
Нет больше пороха в людях, устали они, измельчали, и не верю я, что эти самые, обыкновенные и довольные, могли бы воскресить революцию. Не такие творят, о нет! <...> Можно бороться, воодушевляясь прочитанным, передуманным (никакими экономическими идеалами и настоящими марксистами нельзя воодушевиться), можно бороться, воодушевляясь мечтой, мечтой нечеловеческой красоты, недостижимой свободы, только недостижимой!
Красота, свобода - это мраморная женщина, у ног к<отор>ой погибают ее избранники. Свобода - это золотое облачко, к к<оторо>му нет иного пути кроме мечты, сжигающей всю душу, губящей всю жизнь. Итак, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не за большинство, к<отор>ое тупо, глупо и всегда неправо. Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо большинством. Идти против - вот мой девиз! Против чего? спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма (нет, не во имя его, а за мечту, свою мечту, прикрываясь социализмом), против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!
Нет ничего реального, за что стоило бы бороться, за что стоило бы умереть. Польза! Какая пошлость! Приятное с полезным, немецкий педантизм, слияние с народом... Гадость, мизерия, ничтожество!
Умереть за... русскую конституцию. Ха ха ха! Да это звучит великолепно. На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня. "Это громкие слова", скажете Вы. Пусть громкие слова! Громкие красивые слова выражают громкие, дерзкие мысли. Я безумно люблю слова, их вид, их звук, их переменность, их неизменность. Ведь слово - всё! За свободное слово умирали Джиордано Бруно, умер раскольник Аввакум, за свободное слово, за простор, за звук слова "свобода" умерли они.
Свободное слово! Как это звучит! (СС7, 730-731)
Не подготовленное ни заданной темой, ни предшествующим ее развитием финальное признание в любви к словам, к "их виду, их звуку, их переменности, их неизменности" есть, пожалуй, самый пронзительно личный аккорд в этом рассуждении, которое в остальном, скорее, воспроизводит публицистические, в том числе - мистико-революционные, клише того времени. Заявленная вначале тема ожидания социальных сдвигов и собственного участия в "борьбе" тут же оборачивается своей ницшеанской, неоромантической стороной: "борьба" оказывается актом индивидуального самоутверждения, способом бытия личности - и утрачивает всякую связь
с социальными задачами. Более того, непременным условием "борьбы" объявляется сознание недостижимости ее цели, ибо "нет ничего реального, за что стоило бы бороться, за что стоило бы умереть". И именно за этим выводом следует решающий скачок темы: единственной реальностью, увлекающей автора, объявляются слова, "громкие красивые слова", выражающие "громкие, дерзкие мысли". За слова, за их "звук", а не за существо определяемой ими цели, оказывается, и боролись самые лучшие.
Все это рассуждение могло бы быть названо юношеским
и книжным - и не заслуживало бы интереса, если бы его основные мотивы не отозвались затем многократным эхом в размышлениях и мироощущении зрелой Цветаевой. Именно поэтому и самую динамику рассуждения шестнадцатилетнего автора не следует обходить вниманием: романтическая мысль о жизненном пути как постоянном стремлении к недостижимой цели (ибо все достижимые не заслуживают усилий) находит противовес в осознании "слова", даже "звука слова", в которое (или в который) претворена прекрасная цель, как самодостаточной ценности, компенсирующей все несовершенство жизненного ряда, а быть может, как раз и сообщающей жизненному ряду совершенство, в нем как таковом отсутствующее. Приведенный отрывок из письма Юркевичу позволяет наблюдать за рождением того смысла, который с ранней поры и до конца жизни приписывается в цветаевской рефлексии творческому импульсу и его результатам. Однако путь от спонтанного признания в любви к словам до утверждения словесного творчества как области основных жизненных интересов окажется в жизни Цветаевой еще долгим и непрямым.
Основная часть стихов "Вечернего альбома" написана в 1909 и первой половине 1910 года. О литературных привязанностях и влияниях, отразившихся в этих стихах, пойдет речь несколько ниже. Но одна из таких привязанностей выделяется из общего ряда: она заявлена непосредственно в посвящении сборника и задает определенный модус его прочтения. Свой дебют Цветаева посвящает "блестящей памяти Марии Башкирцевой".
"Дневник" Марии Башкирцевой был настолько популярен в России в конце XIX - начале ХХ века1, что кажется естественным предположить очень раннее знакомство Цветаевой с его текстом. Однако документально это не подтверждается. Среди литературных имен, упоминаемых в письмах Цветаевой 1908-1910 годов, имени Башкирцевой нет. Да и в самих стихах "Вечернего альбома", среди множества прямых и косвенных свидетельств о книжных увлечениях юной Цветаевой, следов Башкирцевой не найти. Исключение составляет открывающий сборник сонет "Встреча", своим положением вне разделов структурно примыкающий к посвящению, а содержащимся в нем рассказом о видении автору образа некой умершей устанавливающий связь между автором и адресатом посвящения. Посвящение далее "подтверждается" структурой сборника, имитирующей дневник: три раздела - "Детство", "Любовь", "Только тени" - задают ту рамку, в которую Цветаева помещает свое "автобиографическое повествование". То, что фактически стихи в сборнике расположены не в порядке написания, не скрывается автором и не смущает его: реальная хронология написания стихов еще не воспринимается Цветаевой как самодостаточный структурный принцип2, и дневниковость привлекает ее пока лишь как композиционная на-
ходка.
В какой же момент складывается идея такого сборника? В какой момент личность и дневник Башкирцевой оказываются в центре творческих размышлений Цветаевой?
Есть лишь одно косвенное свидетельство на этот счет.
В воспоминаниях сестры Цветаевой первое упоминание имени Башкирцевой относится к началу 1910 года, т. е. ко времени, окрашенному переживанием разрыва с Нилендером. Весной того же года, согласно этим воспоминаниям, происходит знакомство сестер Цветаевых с художником Леви, знавшим когда-то Башкирцеву в Париже. Мемуаристка упоминает также о переписке с матерью Башкирцевой, в которую вступает в это время Марина Цветаева1. Иначе говоря, именно в первой половине 1910 года Башкирцева начинает завладевать мыслями Цветаевой, и хотя трудно предположить, чтобы ее дневник был совершенной новостью для Цветаевой в это время, чтение его и размышления над ним рождают творческий отклик и дают толчок самоопределению именно теперь.
Почва оказывается чрезвычайно благодатной. Переживание разрыва с Нилендером (продолжающееся в стихах, по крайней мере, до осени 1910 года) обостряет авторефлексию, и встреча со столь мощным образцом чужой авторефлексии, каким является "Дневник" Башкирцевой, подсказывает Цветаевой выход для ее собственной. Давно ставшая для нее привычной потребность претворения своих жизненных переживаний в слово находит себе в примере дневника Башкирцевой новое обоснование. Все происходившее в жизни отдельного человека может, оказывается, быть достойным внимания
человечества: "...это всегда интересно - жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки"2. А раз так, можно и даже дулжно с максимальной полнотой описывать собственную жизнь, не заботясь различиями между интимно-личным и общечеловеческим, домашним и общественным, ибо ценна индивидуальная жизнь целиком, включающая в себя все это.
Из этого пафоса и рождается замысел обширного стихотворного сборника. Он выкристаллизовывается, по-видимому, во время летней поездки 1910 года в Германию и к осени этого года принимает окончательную форму. Анастасия Цветаева уверена, что ее сестра могла бы предложить свой сборник "Мусагету" или "Скорпиону", но "не захотела никакого контроля над собой"1. Действительно, литературные контакты Цветаевой, благодаря ее знакомству с Эллисом и Нилендером, позволяли ей предложить свой сборник одному из модернистских издательств; она также могла через них устроить
в печать отдельные свои стихотворения2. Однако любое из
издательств, если б готово было в принципе принять к печати сборник Цветаевой, потребовало бы от нее совсем иного сборника, - не того, что она задумала. "Контроль" со стороны издательства прежде всего сказался бы в обязательном сокращении объема книги, т. е. в отборе стихов - и полном разрушении того замысла, который сформировался у Цветаевой. Иными словами, издание задуманного сборника за свой счет было единственным способом издать такой сборник
вообще.
То, что литературно более престижному варианту - изданию своей первой книги под маркой издательства - Цветаева предпочла точное следование собственному замыслу,
немало говорило о юном авторе. О последствиях своего пренебрежения правилами серьезной литературы (сходстве своего сборника с дилетантской поэзией) Цветаева, очевидно, даже не задумывалась. Думала она о том, чтобы ясно указать, по чьим стопам решила идти, и сонет "Встреча" о таинственной связи между нею и автором знаменитого "Дневника" должен был объяснить не избранность, а предначертанность такого пути.
В соответствии с выбранным кредо Цветаева могла бы вообще не производить отбор стихотворений при подготовке "Вечернего альбома": ценность принадлежала не отдельным стихам, но цельности и полноте повествования. Тем не менее некоторый отбор был ею произведен, и ряд стихотворений, скорее всего, по условиям технического (или финансового) ограничения объема книги был Цветаевой отброшен1.
Видимо, именно потому, что при подготовке "Вечернего альбома" количественные ограничения имели место, у Цветаевой, воодушевленной благоприятными отзывами на сборник, сразу возникло намерение издать второй - близнечный по структуре и пересекающийся по хронологии - сборник "Волшебный фонарь" (1912). К стихам, не включенным в "Вечерний альбом", она добавила те, что были написаны за истекший год с небольшим, и снова распределила по трем разделам. На этот раз они назывались ироничнее - "Деточки", "Дети растут", "Не на радость", - но дневниковая рамка была соблюдена, и при "наложении" разделы двух сборников совпадали по существу обозначаемых ими "этапов". Этим подчеркивалось, что новый сборник не столько продолжал, сколько дополнял предыдущий, т. е. восстанавливал некоторые выпавшие из прежней публикации "дневника" звенья, а заодно и включал вновь появившиеся. Потому впоследствии,
в 1922 году, Цветаева и утверждала по поводу двух своих первых сборников: "по духу - одна книга" (СС5, 5).
Это единство двух книг имело и еще одно, композиционное, выражение. Если "Вечерний альбом" открывался посвящением Башкирцевой и примыкающим к нему сонетом "Встреча", то в "Волшебном фонаре" Цветаева подтвердила свою приверженность примеру Башкирцевой в финальном стихотворении сборника - "Литературным прокурорам". В нем она уже не просто обозначила свое следование примеру Башкирцевой, но нашла собственные слова для передачи того пафоса, который одушевлял и ее и Башкирцеву. Стихотворение это можно считать первым в творчестве Цветаевой опытом поэтической декларации:
Всё таить, чтобы люди забыли,
Как растаявший снег и свечу?
Быть в грядущем лишь горсточкой пыли
Под могильным крестом? Не хочу!
Каждый миг, содрогаясь от боли,
К одному возвращаюсь опять:
Навсегда умереть! Для того ли
Мне судьбою дано всё понять?
Вечер в детской, где с куклами сяду,
На лугу паутинную нить,
Осужденную душу по взгляду...
Всё понять и за всех пережить!
Для того я (в проявленном - сила)
Всё родное на суд отдаю,
Чтобы молодость вечно хранила
Беспокойную юность мою.
(СП, 55)
Достаточно сопоставить с этим стихотворением хотя бы некоторые фрагменты "Дневника" Башкирцевой, чтобы понять, что Цветаева сознательно говорит в унисон с ней.
"К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало"1, - эти слова, открывавшие предисловие к дневнику, написанное Башкирцевой за полгода до смерти, были на слуху у многих читателей поколения Цветаевой. В финальной же части предисловия, говоря о своих самых мучительных предчувствиях, Башкирцева писала:
...после моей смерти перероют мои ящики, найдут этот дневник, семья моя прочтет и потом уничтожит его, и скоро от меня ничего больше не останется, ничего, ничего, ничего! Вот что всегда ужасало меня! Жить, обладать таким честолюбием, страдать, плакать, бороться и в конце концов - забвение... забвение, как будто бы никогда и не существовал...2
О тех же переживаниях говорила и другая, более поздняя, чем предисловие, запись дневника:
Мы знаем, что все умрем, что никто не может этого избежать, и все же у нас хватает духу жить под этой вечной страшной угрозой!
Не боязнь ли полного конца, внезапного прекращения существования, толкает людей непременно оставить что-нибудь после себя? Да, те, которые сознают неизбежность конца, страшатся его и хотят пережить самих себя.
Не служит ли этот инстинкт доказательством, что существует бессмертие, или же что мы его, по крайней мере, жаждем?1
Таким образом, стихотворение "Литературным прокурорам", авторизуя башкирцевские темы, предлагало читателям первый опыт концептуализации Цветаевой своей "любви к словам". Открытый юной Цветаевой смысл творчества был таков: жизнь автора, в совокупности всех ее переживаний, заносится им на бумагу потому, что для него, автора, это способ не "умереть навсегда"; последняя мысль невыносима автору оттого, что ему "судьбою дано всё понять", т. е. оттого, что свою человеческую одаренность он оценивает как исключительную; и наконец, автор с таким бесстрашием отдает "всё родное" на суд публики, потому что лишь "проявленное" (т. е. сделанное доступным прочтению) имеет силу над забвением, в которое может погрузиться юность автора с наступлением новой поры в его жизни.
Если бы у стихотворения не было заглавия, его смысл, пожалуй, этим бы и ограничивался. Заглавие, однако, придавало стихотворению не только программный, но и полемический смысл, тем самым отсылая к литературному контексту, в котором читались и оценивались первые сборники Цветаевой.
Глазами критики
Известно, что "Вечерний альбом" был встречен критикой заинтересованно и доброжелательно. Во многом прием, оказанный сборнику, объяснялся сложившейся литературной ситуацией: доминантой ее было ощущение конца символистской эпохи и открытость новым поэтическим веяниям. В конце 1909 - начале 1910 года, как известно, прекратили свое существование два главных
|
|
Категория: Новости |
Просмотров: 614 |
Добавил: fronstion
| Рейтинг: 0.0/0 |
| 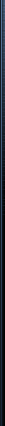 |
 | |  |
|
|
|